Не нашли статью о своей фамилии? Как же так! Скорее исправьте это, написав статью сами, или доверьте это профессионалам! Свяжитесь с нами через раздел Контакты.
Не оставьте свой род без истории!
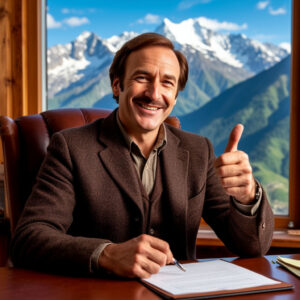
Не нашли статью о своей фамилии? Как же так! Скорее исправьте это, написав статью сами, или доверьте это профессионалам! Свяжитесь с нами через раздел Контакты.
Не оставьте свой род без истории!
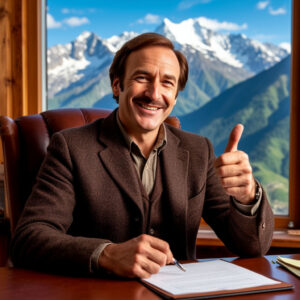
Не нашли статью о своей фамилии? Как же так! Скорее исправьте это, написав статью сами, или доверьте это профессионалам! Свяжитесь с нами через раздел Контакты.
Не оставьте свой род без истории!
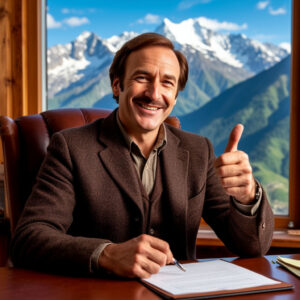
Башлык известен народам Северного Кавказа под тем же названием тюркского происхождения (баш — голова). Только у адыгейцев он имеет местное название шъхъарыхъон (т. е. головной). Ту же семантику имеет наименование башлыка у абхазов 75.
Башлык представлял собой капюшон с длинными закругленными на концах лопастями. Его шили из сложенного вдвое куска материи. Шов проходил сзади. Передние концы опускались в виде широких и длинных лопастей. При надевании башлыка даже на высокую шапку эти лопасти могли быть замотаны вокруг шеи. При общей схеме покрой и отделка имели ряд вариаций.
На Северном Кавказе башлыки носили на шапку, а не прямо на голову, как в Западной Грузии и частично в Абхазии. Надевали его во время дождя в накидку. При езде верхом концы обматывали вокруг шеи, спустив назад. В дороге при хорошей погоде башлык висел на плечах, на шнурке, спущенный капюшоном и лопастями назад. Башлык иногда носили на плечах, скрестив концы на груди и заткнув за пояс. Так его надевали чаще старики для тепла, они повязывали башлык и на талию. Во время сева крестьяне иногда использовали его как сеялку, завязав лопасти через плечо (рис. 16).
Все это будничное, обычное применение башлыка. Но он был и украшением мужского костюма в торжественных случаях. Богато украшенный башлыкнадевал юноша, когда ехал за невестой. Надевали башлык и на скачки. Башлык был одним из обычных подарков невесты родственникам мужа, в таком случае его старались красиво украсить. Простые рабочие башлыки обычно не шмели особых украшений, их шили из узкого домашнего сукна, иногда довольно грубой работы, составляли порой из нескольких кусков. Нарядные праздничные башлыки шили из белого. черного, серого или окрашенного в красный цвет домашнего сукна тонкой работы (которым особенно славились осетины). Очень ценилось мягкое, теплое и красивое по цвету сукно из верблюжьей шерсти 76. На башлыки покупали также тонкие фабричные сукна разных цветов.
Башлыки украшали галунами, шелковой или шерстяной тесьмой, кистями, золотым шитьем, басонными пуговками. Богато украшенные башлыки были одним из предметов для подарка членам царской фамилии, русским начальникам. После революции эти башлыки (кабардинской и осетинской работы) были переданы в ГМЭ. Среди них есть явно подарочные экземпляры с короной и инициалом 77.
Башлык широко распространился в России. Он входил в форму казачьих войск и некоторых других воинских частей. Известен был и за границей (наполеоновские солдаты были снабжены башлыками). В конце XIX — начале XX в. в русских городах башлыки носили не только гимназисты, но и гимназистки.
Хотя башлык считался мужским головным убором, в рассматриваемый период его стали носить и девушки во Владикавказе и Адыгее. Их башлыки были особенно нарядны. По-видимому, это вторичное явлением башлык вернулся на Кавказ из России уже в функции и женского убора.
Среди музейных экземпляров башлыков наблюдаются отличия в покрое. У карачаевцев, балкарцев, ингушей, в значительной части и кабардинцев башлыки имели небольшой капюшон, выкроенный под прямым углом. Парадные башлыки у осетин, а отчасти и кабардинцев, имели капюшон большей величины, который кроился иногда под тупым углом, непосредственно переходя в широкие и короткие лопасти. В некоторых случаях (кабардинцы) башлыки делали такого покроя, что их можно было носить только на шее.
Созданный для сугубо практических целей, элемент дорожной одежды постепенно превратился в украшение богатого костюма 78. В крестьянской среде, особенно в горах, он сохранял и свою практическую функцию и удобный для этого покрой — с небольшим под прямым углом капюшоном и довольно длинными лопастями.
Подытоживая данные по головным уборам, сопоставим их с материалами по обуви. Традиционные формы обуви, сложившиеся в давние времена, прошли почти неизменными через XVIII—XIX вв. и оказались довольно устойчивы и в первой половине XX в. Это объясняется, как мы уже отмечали, приспособленностью народной обуви к условиям природы и быта, практичностью, несложностью изготовления в домашних условиях.
В головных уборах помимо практичности (а иногда и вопреки ей) большую роль играет социальная характеристика, момент престижности. Поэтому на их изготовление и приобретение порой не жалели времени и средств. Мужские головные уборы XVIII — первой половины XIX в., особенно принадлежавшие социальной верхушке, в дальнейшем исчезли из обихода либо упростились. Позднее для них стала характерна большая изменчивость, сосуществование разных типов и форм. Это было связано с функциональным назначением того или иного убора: парадный, повседневный, шапка пастуха, шляпа косаря и т. п. Наиболее устойчивым элементом оставался материал: мех, ткань, войлок, формы же менялись, отражая не только различные заимствования, влияние моды, но и индивидуальные вкусы.
Е. Н. Студенецкая
Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв., «Наука», Москва, 1989 г.
Третьим типом головного убора является войлочная шляпа, которой пользовались все народы Северного Кавказа в теплое время года. Войлочная шляпа была в первую очередь крестьянским рабочим головным убором. Надевали ее также в дорогу, но при въезде в селение часто меняли на папаху. Шляпы различались по выработке (мягкие и жесткие), цвету, способам отделки71. Их изготовляли женщины — валяли в виде плоского блина, а затем формовали на деревянной болванке. Шляпы из белой мягкой шерсти (в Чечне их называли исхаркуй, т. е. суконная шляпа) были более нарядными, в них ходили в селениях, особенно молодые люди. Войлочная шляпа с очень широкими твердыми полями из грубой шерсти называлась по-чеченски мангал куй, т. е. шляпа для косцов. Края и низ тульи обшивали шнуром.
Осетинские шляпы были более легкими и мягкими. Край шляпы и место перехода тульи в поля обшивали полоской ткани того же цвета. Осетинские шляпыдовольно рано оценили туристы. Еще в начале XX в. их покупали в большом количестве. Туристские шляпы по краю украшали бахромой из длинной шерсти.
Для карачаевских и балкарских шляп был характерен очень плотный, хотя и тонкий, войлок. Карачаевцы редко обшивали край тканью. По краю обычно нашивался шнур ручной работы, такой же шнур отделял тулью от полей; на верхушке тульи часто из шнурка сплетали пуговку, от которой радиально расходились шнурки (чаще шесть), концы которых закреплялись у нижнего края тульи. Балкарцы применяли обшивку и тканью, и шнуром. Последний способ был возможен лишь при плотно окатанном войлоке.
У адыгских народов шляпы обычно обшивали полоской ткани. Иногда, особенно в детских шапках, верхушку украшали кисточкой из шелковых нитей.
При надевании войлочной шляпе можно было придать различную форму. Поля носили опущенными или загнутыми с одной или нескольких сторон, иногда их с боков заворачивали во внутрь или поднимали вверх, закрепляя шнуром и т. п. «Формы ей дают,— отмечал С. В. Кокиев — самые причудливые, это зависит вполне от личной изобретательности каждого: можно встретить круглый или конусообразный верх, широкие поля, закрывающие иногда даже плечи, опущенные или вздернутые, как у итальянского бандита или же a la Napoleon и т. п. Единственным руководителем в этом случае служит воображение осетина, которое приводит к самым уродливым и смешным и странным формам» 72.
Мы отметили бы скорее большую живописность и своеобразие различных манер ношения шляп.
Войлочные шляпы, во всяком случае у адыгских народов, карачаевцев и балкарцев, претерпели некоторую эволюцию. В конце XIX — начале XX в. форма их была иной: тулья была более высокая, вроде колпака, поля маленькие. Такая форма близка форме абхазских войлочных конусообразных колпаков. Правда, последние не имели полей 73.
Войлочные шляпы у всех народов назывались тем же термином, что и шапка вообще, но с прибавкой указания на материал (войлочная), то время как слово «шапка» без уточнения материала являлось синонимом мехового головного убора — папахи. У карачаевцев и балкарцев понятие шляпы передавалось термином къалпакъ, напоминавшим об ее более древней форме. Наряду с этим бытовал термин кийиз бёрк, т. е. войлочная шапка.
В конце XIX — начале XX в. изредка встречались турецкие фетровые фески. Их надевали поверх матерчатой верхушки шапки муллы и хаджи, совершившие паломничество в Мекку. На меховой околыш папахи наматывалась чалма в виде сложенной в несколько раз полосы ткани белого, зеленого, красного цвета, а иногда и пестрой. Чалму носили на папахе и без фески 74.
Из ткани шили маленькие шапочки вроде мягких тюбетеек, которые защищали подкладку папахи от пота. Они известны у адыгейцев, кабардинцев, чеченцев. Последние, входя в помещение, иногда заменяли папаху шапочкой типа тюбетейки, сшитой из полоски ткани с небольшим круглым донышком.
Е. Н. Студенецкая
Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв., «Наука», Москва, 1989 г.
Материалом для изготовления папах служили овечьи шкуры разного качества, а иногда и шкуры коз особой породы. Теплые зимние папахи, а также пастушьи делали из овчины с длинным ворсом наружу, часто подбивая их овчиной с подстриженной шерстью. Такие папахи были теплее, лучше защищали от дождя и снега, стекавших с длинного меха. Для пастуха лохматая папаха часто служила и подушкой.
Длинношерстные папахи делали также из шкур особой породы баранов с шелковистой длинной и кудрявой шерстью или из козьих шкур ангорской породы. Они были дорогими и встречались редко, их считали парадными.
Вообще же для праздничных папах предпочитали мелкий кудрявый мех молодых барашков (курпей) или привозной каракуль. Каракулевые шапки называли «бухарскими». Ценились также папахи из меха калмыцких овец. «У него пять шапок, все пять из калмыцкого барашка, он изнашивает их, кланяясь гостям». Эта хвала не только гостеприимству, но и богатству. «У него три шубы, все три бухарские; висят на гвозде и тля поедает их». Так пели в похоронной песне о богатом человеке 67.
Форма меховой шапки может быть весьма разнообразной. Этнограф С. В. Кокиев, сам осетин, свидетельствовал: «Зимою шляпы заменяются меховыми шапками, которые тоже чрезвычайно разнообразны, начиная от самых изящных и миниатюрных до самых грандиозных, как стог сена. Полнейшее приволье каждому». Примерно то же самое писал об осетинах в 1872 г. В. Б. Пфаф: «Впрочем, папаха сильно подвержена моде: порою ее шьют очень высокою, в аршин и более высоты, а в другое время довольно низкою, так что она немного лишь выше шапки крымских татар» 68.
Во всем этом разнообразии, зависящем от назначения папахи, социальной принадлежности хозяина, моды, личных вкусов, тем не менее наблюдается некоторая последовательность форм, которую мы и попытались отразить на картах. Кроме того, нами отмечена и возрастная разница: старики, а часто и дети носили обычно уже выходящие из моды шапки.
Как видно из материалов, относящихся к XVIII —началу XIX в.. при наличии разнообразных типов шапок из ткани большое распространение, особенно среди простого народа, имели меховые шапки-папахи, часто с верхом из ткани. Л. И. Лавров 69 высказывал мнение, что меховая шапка, папаха — это поздняя форма головных уборов, им предшествовали шапки из тканей, которые зафиксированы на рисунках путешественников и в археологических материалах. Нам эта точка зрения не кажется убедительной. Издавна занимаясь скотоводством, делая из шкур не только шубы, но и штаны и даже рубахи, как мог горец «не додуматься» до меховой шапки? (рис. 15).
Остатки меховой шапки были обнаружены в Белореченских курганах. Меховые шапки мы видели и на рисунках многих путешественников XVII—XVIII вв., особенно там, где они изображали толпу. Что касается археологических материалов, то ведь и шуб мы в них не находим, хотя знаем, что их носили. Видимо, плохо выделанная овчина не сохранялась в могилах. Кроме того, хоронить всегда старались в лучшей, более нарядной одежде, а шапка из овчины, вероятно, была повседневной. На рисунках путешественников XVIII — первой половины XIX в. чаще всего изображаются люди богатые, знатные, в нарядных шапках из ткани с галунами. Большая часть из них — это жители плоскостных районов и побережья Черного моря, куда издавна проникали привозные ткани разного качества, шедшие прежде всего на одежду знати.
Во всяком случае, с конца XVIII в. меховые шапки уже бытовали и во второй половине XIX в., согласно полевым материалам, стали преобладающими в составе головных уборов.
В конце XIX — начале XX в. шапки целиком из меха (из овчины с длинной шерстью) бытовали главным образом в качестве пастушеских (чеченцы, ингуши, осетины, карачаевцы, балкарцы). Иногда их делали из овчины мездрой наружу, это были высокие конусообразной формы шапки с широким околышем.
В то же время у чеченцев и ингушей имелись парадные шапки из курпея, высокие и прямые.
В начале XX в. вошли в моду невысокие, почти по голове, суживающиеся кверху шапки из каракуля. Их носили главным образом в городах и прилегающих к ним районах плоскостной Осетии и в Адыгее.
Из овчины шили ночные шапки, обычно из пяти клиньев, имевшие вид ничем не покрытого колпака или подобие чепца. Их надевали на ночь мехом внутрь мужчины старшего возраста. В конце XIX — начале XX в. более широко бытовали меховые шапки с донышком из ткани или войлока, неоднократно менявшие свой фасон.
Наиболее старой формой считались высокие лохматые шапки с выпуклым верхом из мягкого войлока. Они были так высоки, что верх шапки наклонялся в сторону. Сведения о таких шапках записаны от стариков карачаевцев, балкарцев и чеченцев, которые сохранили в своей памяти рассказы отцов и дедов. Ареал этих шапок и степень их распространения точно не известны.
В конце XIX — начале XX в., кроме описанных выше шапок из меха, носили также шапки второго типа — из меха с тканью. Верх их шили из четырех клиньев, околыш был из овчины. Для верха использовали домотканое сукно или покупную ткань. Зимние шапки стариков-горцев подбивали стриженой овчиной, иногда войлоком. Часто встречались шапки с подкладкой из ткани, стеганой на вате. Верх у этих шапок был округлым и выпуклым, его также шили из четырех клиньев. Позднее, особенно в начале XX в., выпуклый верх стали заменять плоским, также из ткани. Эти шапки считались более парадными, их делали из мерлушки или каракуля, иногда даже на кожаной подкладке (карта 5).
В качестве парадной шапки в рассматриваемый период были распространены высокие (до 25—30 см), очень мохнатые папахи из шкур баранов с длинной шелковистой шерстью или козьих шкур. Выпуклая верхушка была покрыта тканью, тонким сукном или бархатом. Иногда ее украшали галунами. Такие папахи бытовали у чеченцев, ингушей, реже отмечались у осетин и кабардинцев, носили их и терские казаки. Шапки стоили дорого, поэтому имелись они преимущественно у богатых людей. Парадной считалась и прямая высокая папаха из каракуля. Она была распространена в Осетии, Кабарде, Адыгее, плоскостной Чечне и сравнительно редко в горных районах Чечни, Ингушетии, Карачае и Балкарии.
В настоящее время трудно выяснить, чем вызывались эти колебания моды. Однако, по нашему мнению, папаха рано вошла в воинскую форму не только казачьих частей, по и русской армии вообще. Папахи носили во многих национальных частях, входящих в царский конвой. Форменные папахи влияли на головные уборы горцев, особенно праздничные, парадные.
После первой мировой войны на Северном Кавказе повсеместно распространилась невысокая шапка (околыш 5—7 см) с плоским донышком’ из ткани. Околыш делали из курпея или каракуля. Донышко, выкроенное из одного куска ткани, находилось на уровне верхней линии околыша и пришивалось к нему. Такую шапку повсюду называли «кубанкой» (впервые ее стали носить в кубанском казачьем войске), а в Чечне — «карабинкой» из-за ее малой высоты 70. Распространение этой шапки шло с запада на восток и было быстрым, у молодежи она вытеснила другие формы, а у старшего поколения и населения горных районов сосуществовала наряду с папахами старых типов. Да и сама «карабинка», если ее шили не из каракуля, а из овчины, выглядела совершенно иначе и напоминала шапки середины XIX в.
В городах и близких к ним районах шапки делали специальные мастера, в горах их шили сами женщины.
Поскольку шапка была одним из главнейших предметов мужской одежды, для молодых стремились приобрести красивые праздничные шапки. Их очень берегли: хранили, покрывая платком. При поездке в город или на праздник в другое селение праздничную шапку везли с собой и надевали перед въездом, снимая более простую шапку или войлочную шляпу.
Е. Н. Студенецкая
Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв., «Наука», Москва, 1989 г.
Не нашли статью о своей фамилии? Как же так! Скорее исправьте это, написав статью сами, или доверьте это профессионалам! Свяжитесь с нами через раздел Контакты.
Не оставьте свой род без истории!
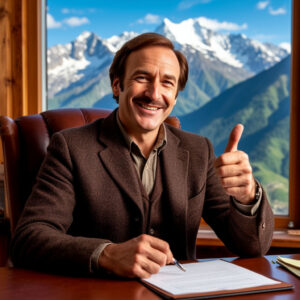
ХАНИКАЕВЫ ШАВЛОХОВЫ ДЗИЦОЕВЫ
| Год основания | ? |
| Основатель | Ханык |
| Родное село | Згубир |
| Ущелье | УрсТуальское ущелье |
| Диалект | ? |
| Религия | Ирон дин |
| Первые упоминания | ? |
| Современное расселение | |
| Владикавказ Ногир майрамадаг Архонка Комгарон | |
Фамильный праздник: Конец июля-начало августа Атынаеджы Дзуары бон
Основу самоорганизации осетинского традиционного общества составляли родственные объединения нескольких уровней — патронимии иу артæй рацæугæ, фамилии мыггаг и фамильные союзы, братства æрвадæлтæ.
Самым узким из родственных объединений была патронимия. Осетинские названия этого родственного института — иу артæй рацæугæ(от одного огня разошедшиеся), иу фыды фырттæ (дети одного отца), дыггаг хæдзар (второй дом) подтверждают высказанное осетинскими исследователями положение о происхождении патронимии в результате сегментации большой семьи (Калоев, 1971. С. 165; Магометов, 1974. С. 144; Гаглойти, 1974. С. 95, 96).
«Иу артæй рацæугæ» включало в себя некоторое число семей разных поколений, главы которых являлись прямыми потомками определенного лица -праотца, считавшегося их общим предком. Несмотря на то что эта группа называла себя буквально «детьми одного отца», речь шла не об отце родных братьев, а об их ближайшем предке.
Численный и поколенный состав патронимий «иу артæй рацæугæ» отличался нестабильностью: патронимии разрастались, из них выделялись новые семьи как неразделенные, так и малые индивидуальные.
Родственная группа мыггаг — фамилия, включала несколько патронимий. В сознании осетин это был реально существовавший союз, основанный на кровном родстве. Каждая мыггаг именовалась по имени своего предка. В экономическом отношении мыггаг состояла из отдельных самостоятельных хозяйственных единиц — неразделенных и малых семей, связанных обязательствами взаимопомощи.
Самооргаиизующие функции фамилии, как и других родственных союзов, были связаны с деятельностью фамильного совета и старшего члена фамилии. Черты коллективизма в хозяйственной жизни мыггаг проявлялись в форме различных видов родственной взаимопомощи. Главным интегрирующим фактором было сознание кровного родства, а основными правилами общения — солидарность и взаимность между семьями одной мыггаг. Общность культа, святилища, башни, кладбища сплачивали этот коллектив не меньше, чем наличие общей собственности на средства производства.
Наряду с фамилиями у осетин, как и многих других народов Северного Кавказа, существовал институт, именуемый фамилией второго порядка — æрвæд. æрвадæлтæ (братства) представляли собой более широкий круг родственников, объединяющий иногда 4-5 фамилий, имевших общее происхождение от одного отдаленного предка. Æрвадæлтæ возникали в результате разрастания фамилий первого порядка. Отношения между членами братств были менее тесными, чем в рамках фамилий. Но «æрвадæлтæ» по отношению друг к другу несли определенные обязанности: оказывали материальную помощь в случае смерти кого-либо из них, приглашали на торжественные события, общие праздники, соблюдали экзогамию.
Почти все осетинские фамилии входили в братства. Состав братств не был стабильным. В пореформенный период в связи с массовым переселением осетин на равнину члены «æрвадæлтæ» отдаляясь друг от друга территориально, стали забывать родственные связи с первоначальной основой. В горах семейно-родственные группы занимали нередко отдельный поселок или даже несколько смежных селений.
——
Родственные объединения. Канукова З.В.